88 дней
эссе о романе Гайто Газданова «Ночные Дороги»

Он ещё молод. Маленький, сутулый, крепко сбитый и чем-то похожий на нахохлившегося воробья, на боксёра. Серая кепка блином, сигареты на приборной доске, перчатки на руках, кожа изношена, и в любую погоду на нём серый пиджак с заплатами на рукавах и чёрная бесформенная куртка на несколько размеров больше. У одного из первых появились у него наручные часы.
Главное в романе—герой, шофёр, иммигрант. Всё остальное—дым, как в серии Моне «Вокзал Сен-Лазар», декорация, приведения на фоне тёмных, мокрых дорог. Главное в герое—глаза, узкие от азиатской крови, серые от парижского неба. Лицо ещё молодое, но заметно усталое, бледное, желтоватое от недостатка света, от недостатка сна, от бесконечной езды, от нелюбви. Мозоли на ладонях несмотря на перчатки, крупные фаланги, ногти. Главное в глазах—взгляд. Изначально добрый, весёлый, освещаемый искрой света, смеха, шутки над самим собой, над своим положением. От них морщинки у глаз. Но если вглядеться внимательнее—надломленный, недоверчивый, будто долго не заживающий шрам, рана от пережитого потрясения.
Быстро проходит очарование и романтика ночных дорог—дорог в жёлтом свете, в радужных лужицах бензина, и вязкого масла, и осенних листьев. Листья повсюду: на обочинах и в реке.
Наша жизнь—словно поездка в такси: короткие мимолётные встречи и разговоры искусственные, чаще поверхностные, чем вдумчивые, неожиданно откровенные, глубокие. Жалость и сострадание атрофируются со временем, как ненужный балласт. Пассажиры чаще вызывают отторжение и неприязнь, чем сострадание и любовь. Это искатели приключений, путаны, бандиты, предприниматели и клиенты несчётных борделей.
Прохожие ночного Парижа—разношёрстные калеки, бродяги, нищие, опускающиеся интеллигенты, рабски тянущие лямку крестьяне и рабочие с затянутыми невидимой пеленой глазами.
Вопреки обычному русскому романтическому представлению Париж ночной—это огромный чёрный паук, раскинувший сети ночных дорог во все стороны. Это город окраин мрачных и смрадных, с жителями–рабами годами, поколениями не покидающими привычных насиженных мест, проторенных дорог.

Маяками чёрного моря светят витрины ночных кафе. Светляками на них собираются жители ночного города. Алкоголь—здесь средство побега от невыносимой реальности, способ выжить. Удел философов, удел слабых. Наш герой «думает о смерти, никого не любит, и презирает свою красоту». Он и сам с годами почти превратился в железного человека, человека с железным сердцем. Повседневность, как бытовая химия, почти вытравила в нём свет детства, человечность, вкус мечты. Он—ковбой, купающийся в своём и чужом одиночествах. Есть сила в его руках, но не ясно, куда идти и на что её применить. Он—современный лирический герой, герой нашего времени. Один из миллиона людей, выброшенных на берег революцией. Иммигранты люди–рыбы, задыхающиеся в чужой стране, задыхающиеся от неумения перестроиться, от невозможности применить себя. Эта книга приоткрывает завесу на жизнь наших соотечественников в Париже. Её мы тоже по привычке часто идеализируем. Разве может быть трудно в Париже? Как это можно до сих пор не выучиться по французски? И это после стольких лет...
Они сидели друг против друга, за столиком этого маленького ресторана, после обеда, стоившего каждому из них около восьми франков, оба плохо одетые, в потрёпанных пиджаках, в рубашках не первой свежести, в штанах с трагической бахромой внизу, и спорили о государстве, гражданами которого они не состояли, о деньгах, которых у них не было, об оружии, которого у них не было, о правах, которых они не имели, и о баррикадах, которых они не построили бы. И, в конце концов, почти все посетители этого ресторана жили так же, как Иван Петрович, или Иван Николаевич, в воображаемых мирах, и чего бы речь ни коснулась, прошлого и будущего, у них были готовые представления об этом, мечтательные и нелепые и всегда идеально далёкие от действительности. Это были бесконечные и никогда не существовавшие имения, сорок человек за столом, великолепие прежней жизни, французские повара, гувернантки, поездки в Париж или, опять-таки воображаемые, права в воображаемой будущей России или вообще почти бесформенные полунадежды, полуощущения—вот приеду и прямо скажу: ребята, теперь довольно. Я против вас зла не питаю... Европа, в которой они жили, их совершенно не интересовала, они не знали, что в ней происходит: и лучшие из них становились мечтателями, избегавшими думать о действительности, так как она им мешала; худшие, то есть те, у кого воображение было меньше развито, говорили о своей жизни со слезами в голосе и постепенно спивались. И были, наконец, немногие, преуспевавшие в том, что они делали, так называемые здравомыслящие люди в европейском смысле слова, но они были наименее интересными и наименее русскими и о них мечтатели говорили обычно с презрением и завистью. Разница между этими русскими, попавшими сюда, и европейцами вообще, французами в особенности, заключалась в том, что русские существовали в бесформенном и хаотическом, часто меняющемся мире, которые они чуть ли не ежедневно строили и создавали, в то время как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся и приобретшем мертвенную и трагическую неподвижность, неподвижность умирания или смерти. Это объяснялось не только тем, что мечтатели были деклассированными людьми, добровольно покидавшими действительность, которая их не удовлетворяла: в этом была ещё чисто славянская готовность в любое утро, в любой день, в любой час своего существования отказаться от всего и всё начать снова, так, точно этому ничто не предшествовало,—та варварская свобода мышления, которая показалась бы оскорбительной каждому европейцу. Даже любовь мечтателей к прошлому, к прежней прекрасной жизни, к прежней прекрасной России, тоже была обязана своим возникновением вольному движению фантазии, так как то, что они описывали с бескорыстным и искренним умилением, существовало, чаще всего, только в их воображении.
Но наш герой—избранный счастливец. У него помимо редкостного дара замечать мельчайшие подробности, интонации, изменения в голосе, в облике, в движениях, есть ещё одно редкое сокровище—он обладатель другого параллельного мира, в котором он—писатель в тихой гавани туалетного столика у кровати. Ему есть куда скрыться от вездесущей темноты ночных дорог. Этот стол, тетради, книги, разложенные неровными стопками по краям и есть тот остров, тот необходимый каждому человеку остов, на котором он держится, свет на который идёт. В сущности, человеческая жизнь—это комплексное число, и у каждого для полноценной жизни помимо вещественной обыденной части, должно быть что-то сокровенное, согревающее, вымышленное, будь то игра на гитаре, отпуск на море, изучение испанского два раза в неделю в институте Сервантеса, столярничание по выходным или десять минут рисования по утрам, перед работой.

Нам всем нужен воздух, спонтанность, возможность проснуться ночью и, выпив стакан воды, выйти босиком на балкон, вдохнуть полной грудью, чтобы хоть на секунду запрокинуть голову и нырнуть в этот бездонный звёздный мир.
Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которое я почти забыл с тех пор, что уехал из России, и которому соответствовала особенная, прозрачная печаль моих чувств, так резко отличная от моей постоянной густой тоски, смешанной с отвращением. Всё менялось тогда, точно перенастроенный рояль, и вместо грубых и сильных чувств, которые мучили меня обычно, неутолённое и длительное желание, от которого тяжелели и наливались кровью мускулы, или слепая страсть, в которой я не узнавал своего лица, когда мой взгляд падал в эти минуты на зеркало, или непобедимое, непрекращающееся сожаление оттого, что всё не так, как должно было бы быть, и ещё это постоянное ощущение рядом с собой чьей-то чужой смерти,—и я входил, не зная, как и почему, в иной мир, лёгкий и стеклянный, где всё было звонко и далеко и где я, наконец, дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал,—именно, что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины.
Каждый вечер он гасит лампу, громко щёлкая выключателем, в наступивших сизых сумерках, снимает с крючка в прихожей кепку блином и крепко-накрепко задраивая люки, как на подводной лодке, переступает порог, превращаясь в профессионального водителя. Он снова будет говорить на арго и пережидать часы затишья в кафе, попивая тёплое молоко у стойки.
И через два часа после этого свидания, поужинав дома и покинув с сожалением мою комнату, мой стол и диван, я снова сидел за рулём своей машины и медленно ехал по городу, оставив на несколько вечерних и ночных часов то, в чём я обычно жил—воспоминания, мысли, мечты, любимые книги, последние впечатления вчерашнего дня, последний разговор о том, что мне в тот период моей жизни казалось самым важным. Я знал по долгому опыту, что работать с какой-нибудь пользой можно было, только забыв обо всём этом и превратившись в профессионального шофёра.
...
В первое время я ещё пытался брать с собой книги для чтения, но потом решительно отказался от этого; они слишком мешали мне, создавая недопустимую двойственность бытия, совершенно неприемлемую в этих условиях.
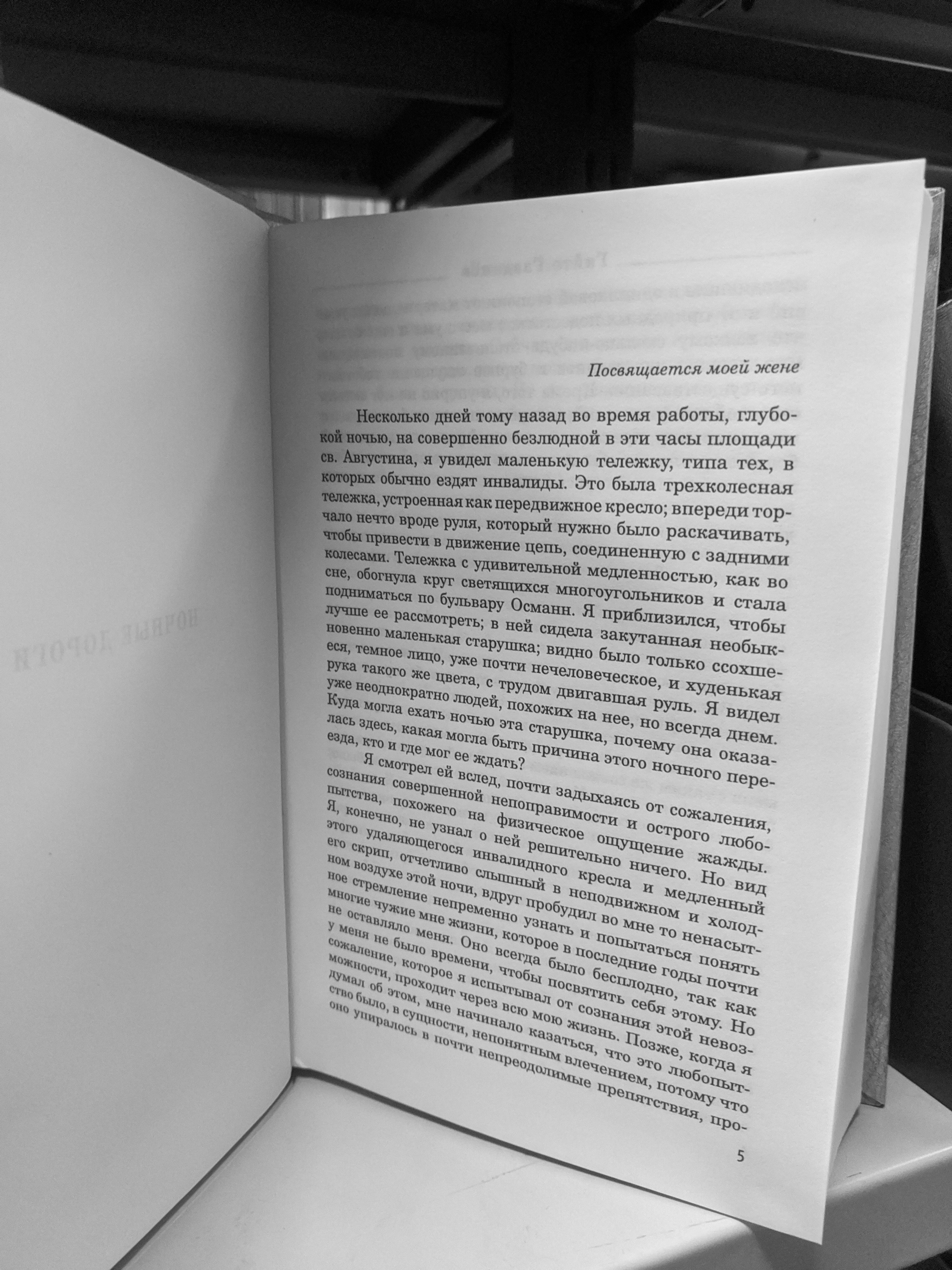
На обратном пути из Риги в Манчестер рядом со мной в узкое самолётное кресло тяжело опустился человек в пеплом покрытых коротких жёстких волосах. От него, как и от газдановского Платона, сильно пахло спиртным. Он звонил кому-то и на ломанном английском объяснял, что всё в порядке, что он уже вылетает—ждите. А потом по невнимательности пристегнулся моим ремнём и позвонил домой. Джазовый голос. Приглушённый свет. Он кивает и всё сильнее сгибается в кресле: «Ничего страшного. Я уже скоро вернусь. Ты и не заметишь. Вот увидишь. Осталось 88 дней. Всего 88 дней...»
Это мы такими же ковбоями бороздим просторы чужих городов в поисках смысла, счастья, лучшей доли, любви. Это мы в вакууме и без друзей. Это мы один на один сами с собой—серые глаза и переносица в зеркале заднего вида.